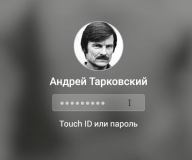В Каннах показали «Космос», первый за 15 лет фильм сентиментального поляка Анджея Жулавски. О фильме никто не пишет не потому, что это провал (тогда бы написали еще как), а потому что показывали его не в фестивальной программе, а в рыночной (и хотя программа каннского кинорынка уже давно переросла фестивальную, его участники по понятным причинам предпочитают помалкивать о хороших фильмах).
Кто не помнит — Анджей Жулавски начинал ассистентом Вайды, потом снял фильм-манифест «Третья часть ночи», потом перебрался во Францию, снял «Верность» с Софи Марсо, женился на ней и с тех пор 15 лет ничего не снимал.
«Космос» - это экранизация одноименного романа Витольда Гомбровича, и Жулавски респектует всем продюсерам, кто хотя бы слышал об этом авторе. Меланхоличный студент юрфака и его fashion victim друг приезжают в пансион отдохнуть и попадают в веселый сумасшедший дом, где за кулинарными поединками, остроумной болтовней и купанием под дождем затаилась такая тревога от заброшенности в этот мир, что любой абсурдист позавидует.
Жулавски как будто перекладывает на пленку формулу Гомбровича: достаточно нарушить правила игры, чтобы впустить в мир реальность. Взрослые никогда не бывают взрослыми. Все герои, вплоть до хозяев предпенсионного возраста, в общем-то просто чудят, пропускают мир через молодость, если говорить языком Гомбровича. Абсурдные, казалось бы, порывы: мечтать об уродливой служанке, расстроить счастливый брак дочери хозяйки, подобрать на дороге сомнительного священника… Но именно они и подвергают сомнению все законы за пределами нашего опыта, в них и мерцает наконец что-то человеческое. Жулавски расстраивает стройное полотно фильма фотогенично и буквально, как жирная улитка на круассане, узорчатое грязное пятно на стене или вздернутый на проволоке воробей — начальный кадр фильма: «Такая эксцентричность, которая вопияла здесь во весь голос и свидетельствовала о руке человеческой».
Конечно, подобравшись к человеческому, счастье едва ли испытаешь: прикосновение к другому невозможно, и к финалу фильма эта изолированность становится невыносимой. Но в конце концов нейм-дроппинг (Толстой, Сартр и Стендаль в одном монологе), синефильские перепалки («К черту Носферату, мне больше нравится Дрейер») и буквально двойной финал, с параллельным монтажом (вот и гадай, какой вариант — ожидание, а какой — реальность), нарушают правила игры, а значит, запускают хоть ненадолго нашу внутреннюю игру очарования и насилия.