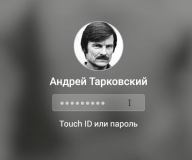Одним из не замеченных почти никем шедевров последнего Берлинале стал полнометражный дебют Мэтью Ранкина «Двадцатый век» из программы Forum — горячечная фантазия о политическом становлении самого известного премьер-министра Канады Уильяма Лайона Маккензи Кинга. Полный метр продолжает эстетику феноменальных короткометражек Ранкина, три из которых уже побывали на Санденсе и принесли автору фестивальную славу: сюрреалистическое сновидение между слэпстиком и утопией, основанное на реальном историческом материале.
Мэтью Ранкин — молодой канадский режиссер, адепт аналогового кино, алхимик, безумный ученый. Его студия, которую он с ревностью и тревогой демонстрирует в немногочисленных интервью, — это километры пленки, литры эмульсии, летающие аппараты, электрические цепи и чучела чаек с хрустальными глазами — их причудливый сплав и рождает самобытную стилистику Ранкина. Тот факт, что каждый из этих элементов так или иначе коррелирует с канадской историей, придает происходящей на экране фантасмагории особенный шарм и становится причиной дополнительного восторга. В одной из самых известных его ранних работ Mynarski Death Plummet национальный герой Второй Мировой Эндрю Минарски прыгает из падающего самолета с горящим парашютом, но до земли не долетает, спасенный огромной медузой, выплывшей из сердца канадской медсестры, с безусловной любовью наблюдающей за его падением. В «Двадцатом веке» вместо медузы будет гигантский нарвал, проткнувший насквозь одного из лидеров оппозиции, — а отношение к герою останется таким же трепетным.
В полном метре Маккензи Кинг в исполнении Даниэля Бейрна — психопат с лицом херувима, который полон решимости реализовать свой долг перед богом и людьми, приняв свою большую политическую судьбу. Именно его глазами — инфантильного, гиперчувствительного, окруженного конкурентами параноика, — видит зритель эту интимную историю взлётов и падений молодого политика, которая ожидаемо оборачивается извращенной фантасмагорической пародией на национальную идентичность.
Дерзкий и трогательный «Двадцатый век», успешно встраиваясь в перечень славных фильмов из Виннипега (формула: максимальная смелость, минимальный бюджет), продолжает традиции одновременно Мэддина, Шванкмайера, Монти Пайтон и Анны Биллер, сочетая ностальгию по пленке и хэнд-мэйд картинке с абсурдными диалогами и гэгами. Воплощением этого эстетического кода становится макет огромного кактуса из папье-маше, из которого в момент критического напряжения чувств героя огромной струей выстреливает грязно-белая слизь (так в советских производственных драмах в пиковые моменты проливалась в заводских цехах сталь).
Снятый на 16-мм пленку в минималистичных декорациях, архитектурно и геометрически интерпретирующих природный мир (Лоурен Харрис на киноэкране), «Двадцатый век» использует эстетические коды тоталитарного кино, моделируя пространство, которое в свою очередь диктует герою правила поведения. Интерьер, соответствующий Кингу-политику, — холодные треугольные скалы, горизонтальные линии движения фуникулеров, и вертикали лифтов и башен — отсылает к эстетике 30-х и противопоставлен более экспрессионисткой и декадентской эстетике приватных пространств премьер-министра.

Безупречная выправка Кинга бесследно исчезает в сценах с матерью, блистательно исполненной Луисом Негином, драг-королем и музой Гая Мэддина. С его появлением происходящее превращается в двусмысленный водевиль: Маккензи Кинг с китоновской настойчивостью сражается с бесконечной чередой замочных скважин, скрывающих от внешнего мира материнскую спальню. Другой зоной экспрессивного выражения чувств становятся попытки Кинга реализовать свою сексуальность, для которого в итоге главным провалом становится неспособность договориться со своими желаниями. Упустив пост премьера, Кинг пускается в уничтожающее его душу путешествие по кислотной долине сексуальных расстройств, массовой истерии и триггеров, в которых необходимые фетиши (в том числе трекинговый ботинок с ножки его возлюбленной Руби) появляются на его пути как по мановению волшебной палочки. Частички этого нижнего мира — это и великолепно сыгранный Ки Чаном доктор Уэйкфилд — то ли Калигари, то ли ученый из Гиллиамовской «Бразилии», изобретающий безумную сигнализацию для регуляции постыдной для политика страсти, и мужеподобная декадентка Леди Вайлет, живое искушение и вынужденная спутница Кинга, преследующая его как ночной кошмар.
Пытаясь выпутаться из личностного кризиса, Кинг оказывается на распутье собственной жизни и жизни своей страны: его терзания, умытые слезами студии MGM и Любови Орловой из «Светлого пути», становятся метафорой общественной жизни, оборачиваясь националистическими лозунгами и призывами к гражданской войне. Внутри иерархических политических структур, где движения тела и души раз и навсегда регламентированы механикой военизированного быта, обнажается то, что лежит в основе тоталитарной политики — перверсия, мелочность и жалость к себе.